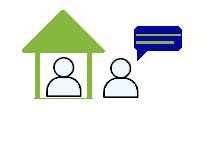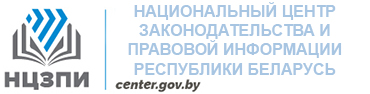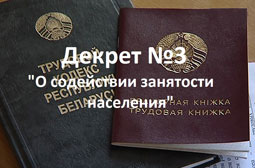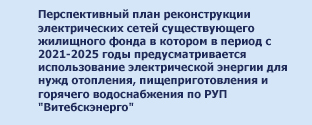- Адрес:
211524, г. п. Ушачи,
ул. Ленинская, 12
- Е-mail:
- Тел приемной:
+375 (2158) 5-86-45
- Тел "горячей линии":
+375 (2158) 5-84-64
(в будние дни с 8:00 до 17:00,
обед с 13:00 до 14:00)

Врач из Витебска: работа в пострадавшем от чернобыльской катастрофы районе - отдельная глава жизни
В непростые времена люди часто становятся сплоченными, и даже несмотря на гнетущую обстановку, находят что-то светлое и человечное. Так случилось в жизни анестезиолога-реаниматолога токсикологического отделения Витебской областной клинической больницы Ирины Ульяновой. Молоденькой медсестрой в далеком 1987 году она отправилась в командировку в пострадавший после аварии на Чернобыльской АЭС Хойникский район. Витебчанка рассказала корреспонденту БЕЛТА, что именно там обрела настоящих друзей, с которыми общается до сих пор, поддерживает во всем и считает родными.
В декабре 1987 года медсестре неврологического отделения одной из витебских больниц предложили поехать в ответственную командировку. "Когда пришло распоряжение, мы уже догадывались, что это будет Чернобыль. Некоторые коллеги, побывавшие там раньше, рассказывали, как работали там, к чему следует готовиться. Я вызвалась добровольцем сразу. Это у меня от мамы, она тоже была большим энтузиастом - девчонкой по комсомольской путевке отправилась в Среднюю Азию на строительство железной дороги. Там она укоренилась и там же родилась я", - поделилась Ирина Ульянова.
Она рано осталась без мамы и приехала к родне в Беларусь. Здесь она окончила школу, поступила в витебское медучилище, а после него пошла работать медсестрой. Когда пришла повестка - отправляться в "чернобыльскую" командировку - Ирина Ульянова ни на минуту не сомневалась, что это - ее.
"Мы ехали, не зная, куда нас привезут, какие там будут условия жизни. Знали только одно - мы там нужны, этого было достаточно. Нас привезли в деревню Рудаков в Хойникском районе. Поселили в общежитии. Трехэтажное здание ПТУ было переоборудовано под нужды медсанбата, там были палаты, операционные. И в Рудакове я была операционной медсестрой в так называемой грязной зоне, где делают перевязки на гнойные раны", - рассказала медик.
На месте добровольцы приняли присягу. Ирина Ульянова с сожалением говорит, что из-за многочисленных переездов потеряла фото, где она запечатлена с автоматом и папкой с текстом присяги - такие воспоминания! Девчата вне работы носили военную форму - бушлаты, кирзовые сапоги, шапки-ушанки. Никаких защитных костюмов, противогазов. На уровень радиации, вспоминает витебчанка, особо не обращали внимания. И лишь когда шапки начинали "трещать" (после замеров на счетчике), меняли их на новые.
"Защитные комбинезоны носили только те, кто был занят на ликвидации последствий взрыва реактора на ЧАЭС. Мы на работе одевали обычные белые халаты. В кирзачах ходить было просто невыносимо, поэтому я носила свою обувь. Наверное, она напиталась тогда радиацией, но мы о таком не думали. Вообще для нас это слово было чем-то далеким и непонятным. Радиации ведь не видно невооруженным глазом, не слышно, это же не война с бомбежками и стрельбой, поэтому мы даже не задумывались о ней. Мы пробыли в Рудакове 70 дней, и только через какое-то время начали понимать, что со здоровьем творится что-то неладное", - отметила витебчанка.
Первым звоночком стал страшный зуд в ногах. "Кожу раздирала до крови. Не знаю, от радиации это было или от постоянного хождения в сапогах, но доходило до того, что кожа покрывалась коркой. Чем только не мазала, ничего не помогало. Еще я там заболела фарингитом с ларингитом, чего дома никогда не было. Девочки отпаивали меня теплым молоком. Когда уезжали обратно, нам рекомендовали не рожать хотя бы в течение года после возвращения из зараженной зоны", - рассказала Ирина Ульянова.
Она добавила, что были среди них и девчата, которые рвались работать на ЧАЭС, где пожарные, военнослужащие продолжали устранять последствия аварии. Желающие отправлялись на 10 дней в эпицентр заражения, не задумываясь о последствиях. Медсестры там следили за состоянием ликвидаторов, давали необходимые медикаменты.
"Каждая из нас тоже туда стремилась. Нам казалось, что ничего страшного не будет, что мы там нужнее, и наши молодые силы пригодятся всем, кто занят расчисткой на реакторе. Через какое-то время, когда послушали тех, кто там работал дольше, к нам пришло осознание, насколько серьезное воздействие на нас может оказать радиация, и мы перестали рваться на реактор", - отметила врач.
Быт у военнообязанных медиков на территории, пострадавшей после аварии на ЧАЭС, мало чем отличался от привычного - дом, работа, повседневные дела. Для всех, кто там трудился, периодически устраивали концерты самодеятельности. В Рудакове витебчанка отметила и свое 21-летие.
"Когда мы приехали, деревню уже выселили, остались только несколько стариков, не желавших покидать родные места. Нам сразу сказали, что у местного населения никаких продуктов покупать нельзя. Рядом с госпиталем был продуктовый магазин, куда припасы привозили из незараженных районов. Все продукты были расфасованы в пакеты, на развес ничего нельзя было купить. Питались мы в столовой", - поделилась Ирина Ульянова.
Вдали от дома, всего привычного, в довольно аскетичных условиях, в окружении невидимой опасности медицинские сестры сблизились и стали считать друг друга почти родными. "Я до сих пор дружу с девчатами, с которыми пережила тот непростой период, они для меня - как сестры. Я прекрасно понимаю мужчин, которые после службы в армии или в горячих точках, когда встречаются вместе, всегда приветствуют друг друга тепло, будто родных. У нас было так же. Мы друг для друга стали самыми близкими людьми. Это настоящее боевое братство. Вообще Чернобыль - это отдельная глава в жизни всех, кто его прошел. Передать это словами сложно", - выразила свое мнение Ирина Ульянова.
После возвращения домой она решила исполнить свою мечту и стать врачом. Поступила в мединститут и до пятого курса совмещала учебу с обязанностями медсестры в той же больнице, откуда уезжала в Рудаков. Только когда на последних курсах вышла замуж и забеременела, сделала перерыв в работе.
Сейчас она трудится в областной больнице, ее "боевые сестры" - в других учреждениях здравоохранения. И все равно все дружат, делятся радостными и не только событиями, знают, как поживают дети, внуки, у кого какие увлечения, заботы, как протекают рабочие будни. "Когда были помоложе, часто собирались вместе, проводили время общей компанией. Теперь видимся реже, но всегда на связи в мессенджерах. Чуть что - готовы прийти друг другу на помощь", - заверила врач.
Свою работу витебчанка любит. Она уже 40 лет в здравоохранении и ни дня не считала, что сделала неправильный выбор профессии. Ее дочь тоже окончила медицинский вуз, сейчас работает в Москве.
"Я несколько лет работаю в токсикологическом отделении, а раньше была анестезиологом в общей реанимации. Там был большой поток пациентов - от детей до стариков. Чего только не приходилось видеть... Здесь же более узкое направление, и хотя пациентов немало, но все равно потише. Даже для такой кипучей натуры, как я, необходимо что-то поспокойнее, ведь я недавно стала пенсионеркой", - отметила Ирина Ульянова.
Для жительницы областного центра, пережившей немало испытаний, важными понятиями являются семья, дети, здоровье и, конечно, крепкая дружба, которая помогает сохранять тепло в сердце и веру в людей с большой буквы.
Алеся ПУШНЯКОВА,
фото автора,
БЕЛТА.-0-